Предлагаем вниманию интервью с выпускником Казанской консерватории Павлом Александровым, который поет на удмуртском под псевдонимом Shoner Paul, занимается этнографией родного Бавлинского региона, а его клип на песню Yoko на коми-пермяцком стал популярен во всем финно-угорском братстве.
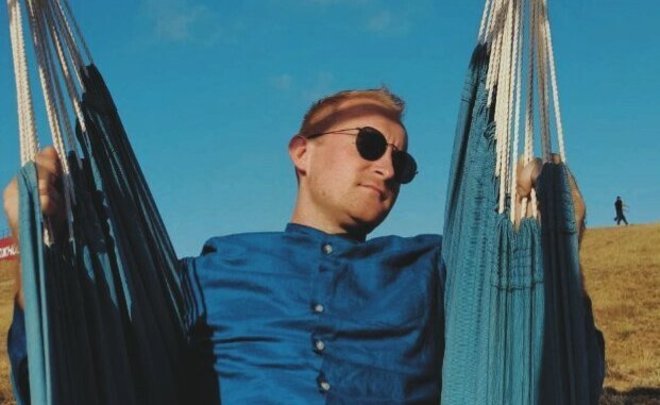
«Боже мой, мы разве не одни в этом мире?»
— Павел, расскажи про деревню, в которой ты родился.
— Моя деревня Николашкино (удм. Утор гурт) появилась где-то три века назад на территории нынешнего Бавлинского района. Ее жители — переселенцы с Южной Удмуртии, современных Можгинского и Алнашского районов. В надежде на лучшую жизнь, которую им обещала царская власть, с акцентом на то, что оренбургские степи плодоносят так, что пшеницу сажать не надо — сама растет, они переехали, бросив все, хотя удмуртам не свойственно покидать насиженные места и уходить в такие далекие путешествия. После того как они осели, здесь начинает развиваться своя обособленная культура, которая на данный момент частично изучена в Удмуртии: до сих пор к нам выезжают этнографы, но уже собирают, грубо говоря, пепел, потому что многие культурные особенности, связанные с традициями, обычаями, фольклором, были утеряны.
— Как у тебя сложились отношения с родным языком?
— До первого класса я плохо знал русский язык. Когда бабушка меня первый раз вывезла в Бавлы на желтом рейсовом автобусе на рынок, где говорили на татарском, мордовском, чувашском, у меня случился катарсис: боже мой, мы разве не одни в этом мире? В школе было тяжеловато, хотя некоторые уроки велись на удмуртском, так учителям и нам было проще. Когда я переходил в девятый класс, школу закрыли, потому что количество учеников снижалось. Решили укомплектовать школу побольше, которая находилась в соседнем большом удмуртском селе Покровский Урустамак. Закрытие школы стало ударом по культуре нашей общины. Сказали: все, ребята, мы больше не можем содержать эту школу, сложновато. Отток молодого поколения из села стал очевиден, потому что всем молодым родителям хочется, чтобы их дети ходили в школу, садик. На этом жизнь в сельской общине закончилась. Закончив учебу в школе, я, как и все мои сверстники, уехал из деревни. Я поступил в музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина в Альметьевске.
— Ты вырос в 90-е в деревне, каково это?
— У нас был свой участок земли. Я общаюсь с городскими сверстниками, слышу истории, что было очень тяжело жить в 90-е годы, потому что элементарно нечего было есть, в магазине не на что было купить. В деревне ситуация обстояла чуть-чуть по другому. У моих родителей высшее образование, они были востребованными специалистами. Мама — ветеринар, папа — директор школы, той самой. Правда, деньги не на что было потратить. Был огород, скотина. Все занимались сельским хозяйством и животноводством, это нас кормит и по сей день, у нас всегда было свежее молоко, масло. Мы были сыты, довольны. Что-то дорогое покупали, если так решала бабушка, у удмуртов негласный матриархат. Компьютер у меня появился в 2003 году. Тогда отец сказал, что нам нужна электронно-вычислительная машина, проще говоря, компьютер, и мы не должны отставать от жизни. Мы были третьей семьей в селе с компьютером, половина жителей пришли его посмотреть, в честь этого, я даже помню, устроили чаепитие с гостями. Это было прямо счастье.

— Какое у тебя было отношение к удмуртскому в детстве?
— Когда ты говоришь с самого рождения с родителями на родном языке, это не что-то такое искусственное, которое тебе привили. И тяжело, наверное, когда ты находишься в такой полиязыковой ситуации, слышишь другие языки. Некоторые люди могут тебе сказать: почему вы говорите на своем языке? И это очень удачно попадает на момент, когда у тебя переходный возраст и ты думаешь: какого черта ты мне сейчас указываешь?
Но у нас в районе по принципу национального происхождения никто никого не притеснял, упаси боже. Возможно, потому что все были представлены в равной степени. И не была важна приверженность какой-либо конфессии. Интересно, что моя бабушка, человек, который должен был привить тебе религиозность, сама не знала ни одной православной молитвы. Все традиционные религии существуют и по сей день, но у них мало общего с официальными.
Удмуртский язык для меня стал таким… факелом того, что надо говорить о родной культуре, освещать путь тем, кто пойдет за мной. Я видел, что происходит в соседних мордовских селах, где языка и культуры на данный момент практически не осталось. Они полностью растворились в среде других народов. И даже не хотят лишний раз вспоминать об этом, что особенно для меня странно.
Я ездил в экспедиции, когда учился в консерватории, записывал удмуртские, татарские, мордовские, чувашские песни, что у нас есть. Потому что очень редко кто целенаправленно занимался изучением нашего региона. Жители так или иначе забывают свой родной язык, особенно молодежь. Я подумал, не дай бог, со мной будет то же самое. Надо как-то этой ситуацией управлять. Для того чтобы поколения, которые останутся после, понимали, что это было что-то такое маленькое, но все-таки богатое. Я начал писать песни, и мое творчество стало инструментом популяризации моего родного языка, особенного местного бавлинского удмуртского говора. А потом увлекся, и эта вещь в какой-то степени ушла на второй план. Мои песни не чистый фолк, это мои фантазии на тему народных песен.
«Делай загранпаспорт, летим в Германию, вот тебе партитуры, учи»
— Ты учился в Альметьевске на дирижера, а потом перебрался в Казань. Почему?
— Все пошло с музыкальной школы. Начнем с того, что мама меня обманула. Я хотел учиться в художке, она сказала, что надо что-то посерьезнее, давай ты походишь 4 года в музыкалку, а потом мы тебя переведем. А потом говорит: надо дальше учиться. Я узнал, что есть такая специальность «хоровое дирижирование». При этом я никогда в жизни не видел подобного. Что делать там вообще? Помню, мне было необычайно тяжело учиться, потому что с фортепиано у меня проблемы всю жизнь. Ребенку, который вырос в удмуртском селе, слышал народную музыку с какой-то индоиранской ритмикой, с особенным звукорядом, надо играть Баха, Моцарта, какие-то сложные произведения. Эту музыку я не воспринимал, хотя классику слышал с детства. Были моменты, когда хотел бросить. Но колледж я закончил.
С учителями шла война разумов. Они мне говорили: у тебя уклон в какую-то народную музыку, она неактуальная, получи профессиональное образование, потом будешь заниматься, чем угодно. Я же хотел, чтобы классическая школа шла рядом с народной музыкой. Когда закончил колледж, понял, что надо идти туда, куда меня тянет. И тут случилось чудо. Я до сих пор благодарен заместителю директора по культурно-массовой работе в колледже, она говорит: «Слушай, Паша, слышала тебя на концерте, ты исполнял какие-то «шотландские» песни. Я до конца не понимаю, зачем это нужно, но мне интуиция подсказывает, что тебе нужно поговорить с Сагитом Хабибуллиным». Он работал на кафедре татарской музыки и этномузыкологии в консерватории и был в это время в Альметьевске.
Консерватория искала студентов, у которых есть тяга к народной музыке. Хабибуллин оказался очень открытым человеком, все мне объяснил, благодаря ему я представил масштаб фольклористики и этнической музыки, важность ее сохранения и продвижения. И я приехал на собеседование в Казань. В колледже меня не поняли. Говорят, ты — дирижер, ты прекрасно сдал экзамены. Приезжал профессор консерватории, говорит: «Делай загранпаспорт, летим в Германию, вот тебе партитуры, учи». А я уже понял, что это абсолютно не мое, я это делать не буду. Так я познакомился с профессиональной фольклорный музыкой. Понял, что у каждого народа есть своя особенная музыка, чем она отличается и по исполнительским моментам, и по происхождению, что эту музыку в науке изучают, выявляют определенные последовательности, формулы, которые присущи только тому или иному народу.
— Когда ты, как ученый, погрузился в родную музыку, что ты испытал?
— Я понял, что она состоит из пластов. Как в археологии. В детстве, кстати, я камни таскал в шкаф, он даже обрушился однажды. В музыке эта теория пластов очень наглядна. Есть поздний пласт, диатонический, где я слышал, грубо говоря, русские народные песни или даже, возможно, мордовские. Слышал ранние пласты и что-то среднее, переходные. А раньше некоторые песни мне казались сложными, а некоторые — легкими. Диатоника казалось мне простой, более родной. Но это было заблуждение. Я услышал песни раннего пласта, где сплошь и рядом встречается пентатоника, лады народной музыки, где какие-то ступени увеличены, понижены. Я понял, что это мне больше нравится, меня это цепляет. Там нет стабильной, кстати, размерности, в каждой строке размер меняется, но прослеживается четкая система. И эту музыку мне стало интересно слушать и исполнять, потому что это сложно.
И еще хочу сказать про исполнение. Когда слушаешь, например, мунаджаты и баиты татар, я слышал еще бабушек, которые пели эти песни. Все же сейчас поют «Эх, алмагачлары!» и прочее. А она мунаджат поет, есть в этом какой-то шарм. Одновременно и гнусаво, прикрыто, но очень звонко. Я начал интересоваться, как культура движется, не только моя, но и татарская, башкирская, и понял, что были моменты, когда исполнителям таких духовных песнопений среди татар приходилось сложно. Потому что эту культуру недопонимали , особенно в советское время. Шлейф советскости до сих пор остается. Мне говорят, это нельзя петь. Почему нельзя? Уже можно, все можно. И тогда бабушка запевала. И вот эта подача осталась в памяти. Как будто бы прикрыто, но все-таки звучит — как игла, которая прорвет плотину.
А еще я ездил в Татышлинский район Республики Башкортостан, где живет огромное количество удмуртов, но практически у всех тюркские имена и фамилии. Они бежали из Удмуртии от крещения, брали мусульманские имена, чтобы никто не догадался об их происхождении и вероисповедании. У них сохранилась древняя культура, удмуртская традиционная религия была восстановлена исключительно по их наследию. И они исполняют песни, которые я никогда и нигде не слышал. Когда я этот материал послушал в консерватории, мои педагоги были в культурном шоке. Они говорят: сплошь и рядом татарские, башкирские песни на удмуртском языке. И вот эта же манера исполнения на грани, когда нельзя, но я все равно буду это петь, потому что это мне близко.
— Насколько тяжело работать в экспедициях?
— Люди не любят, когда им просто задают вопрос. Условная тетя Валя говорит, что когда ты к ней с диктофоном подходишь, она чувствует опасность. Тогда ты говоришь, что ты приходишь чаю попить, поболтать, а потом только успеваешь батарейки менять в диктофоне и скидывать все на ноутбук. Были проблемы. Скажем, соседнее село считается языческим. И когда я к ним приехал и начал задавать вопросы касаемо религии, они говорили: зачем это тебе? И люди, которые ездили со мной в экспедицию, предлагали заходить сначала мне, а потом заходили сами. Был некоторый страх у всех членов экспедиций. И люди очень живо делились информацией, когда ты им говорил: я это оставлю в письменных источниках, это не пропадет. В Бавлинском районе мы собрали много информации по культуре местных удмуртов и даже выпустили книгу-сборник тиражом 100 экземпляров, диск прикрепили. Там множество текстов, переводы, причем я использовал наш диалект, а не общелитературный язык.

«Позже оказалось, что по матери он финн»
— Давай про твою музыку. Когда ты начал писать песни?
— Когда я учился в школе, мне купили фортепиано. Сначала я не понимал, как играть, потом начал придумывать аккорды, которых не бывает, мотивчики. Я с четырех лет ходил в фольклорный ансамбль с бабушкой. Они пели, а я запоминал и импровизировал. Помню, ходил во дворе и пел. И мне соседи говорили, как хорошо ты поешь. А мне было стыдно, что меня услышали.
А потом я начал потихонечку что-то свое рождать. Чтобы не было копией, того, что существует. Вот я восхищаюсь Моцартом. У него не было возможности послушать разную музыку. Как он свою рождал, откуда слышал источники? У меня сейчас высшее образование, и я понимаю, что любая музыка — это комбинация… Так что я взял за основу свои стихи и мотивы народных песен, придумал к ним аккорды, а потом песня выдерживалась, как французское вино. Однажды я показал ее своей учительнице, она сказала: фу, какая простота, надо посложнее.
Когда я приехал в Альметьевск, начал слушать больше акустической музыки, студенческие группы. Подумал: они могут, почему я не могу? Записал песню в Альметьевске, выпустил на видео. Это получило резонанс. Мне начали писать удмурты, мол, какая песня классная, давайте запишем. А я же не певец, я отпирался. Через некоторое время, когда я уже вернулся из армии, учился в Казани, мне опять пишут: нас зацепила песня, сейчас будет Liet International (его еще называют «Евровидением малых народов») в Норвегии, и мы хотим что-то из ряда вон.
Из центра декоративно-прикладного творчества мне прислали костюм, нашли музыкантов. И, не зная тогда английского, я поехал в 2017-м в саамский поселок Кеутукейну. Там нас водили на мероприятие, где саамы пели йойки. Я решил их в конце добавить, а также мелизматики татарской, чтобы показать, откуда я приехал. После репетиции подходят саамы, часть из них, оказывается, из Мурманской области: «Ты из России, песня красивая, а в конце йойк? Нет? Но мы за тебя будем болеть».
Я благодарен тем людям, которые на меня сделали ставку. Это меня подтолкнуло к тому, чтобы писать песни. Я их сочиняю на фортепиано, а потом ищу варианты аранжировок. Не каждый музыкант будет терпеть, когда треки по десять раз переделывают, так что мне повезло начать работу с бывшим аккордеонистом, а ныне продюсером Германом Винокуровым. Позже оказалось, что по матери он финн. Мы с ним нашли общий язык. В 2019-м выпустили альбом Ulone на основе народных песен из моей деревни. Теперь я вижу, что на сборных концертах люди зачастую приходят чисто на меня. Надо продолжать этим заниматься. Хотя я завис сейчас, нужны вдохновение и новые идеи.
— Какая современная музыка на тебя влияет?
— Мой отец, живя в деревне, увлекался электронной музыкой. Он позиционировал себя как диск-жокей. Учился в Елабуге, а в Челнах переписывал кассеты. У нас дома звучали AC/DC, Modern Talking, лучшие дискотеки, по его словам, были у нас в клубе. Он собирал пластинку, объяснял, как она устроена. Я слушал Долли Партон, кантри-группу «Кукуруза». Помню, когда появилась Майли Сайрус, я обратил внимание, что она поет так, как было гораздо раньше, чем она появилась. То есть таким образом фольклор может быть актуален. Потом отец начал слушать транс — Армина ван Бюрена, Пола ван Дайка. До сих пор мечтает съездить в Голландию, оторваться на рейве. Мама говорит: «Андрей откуда в тебе это?». Да, французскую попсу и рэп мы тоже слушали. В итоге электронная музыка мне оказалась ближе. Мне нравится контраст мертвого и живого.
«Бурановские бабушки» удмуртского инди
— Ты живешь в Татарстане, но считаешься представителем удмуртской волны. Откуда она возникла?
— Я думаю, тут повлияли «Бурановские бабушки», вызвали прямо-таки всплеск интереса. Еще у нас художники начали активно работать, причем пошли в сторону абстракции. Они свои картины часто презентуют не в России. Приезжают к нам эстонцы, финны. А что это? У нас есть галереи, нам это срочно надо! И там художники видят, как работают их коллеги в Европе. Если вернуться в музыке, то дело в том, что мы очень поющий народ. Сутки напролет играет музыка. У меня поэтому дома нет звуковых устройств. Плюс у людей постоянно есть желание покритиковать эстрадные концерты, а критику они подкрепляют делами. Теперь бесконечные республиканские концерты адаптируются под новых музыкантов. К сожалению, они дальше никуда не рвутся, чтобы показать себя за пределами республики, страны.
— Что тебе особенно нравится?
— Мне нравится группа Post-dukes. Сначала я думал (они меня убьют, если это прочтут!), как непрофессионально, порой очень фальшиво. А потом они меня очаровали, они поют, как получается. Чего париться-то? Это музыка, которую нужно наблюдать. Женя Бикузин, который теперь Чудья Жени, основатель группы, сделал модный коскан крезь, он же кубыз. Он странный, но не специально: он сам по себе такой. Иногда думаю: ну почему я не додумался до такой группы?!
Нравится группа «Суоми». Правда, название не нравится, оказывается, им тоже. Мы делали недавно в Челнах финно-угорский фестиваль, общались. Они собираются полностью поменяться. Еще одна группа — «Азвесям». Три женщины, помешанные на экологии, здоровом образе жизни, излили эти мысли в музыку. Они блаженные в хорошем смысле, очень крутые музыканты. Могут взять, например, тему из «Игры престолов» и начать играть. Это то же, что «Бурановские бабушки» сделали с Цоем. Сначала удивлялись, а теперь половина Удмуртии Цоя поет.
— Удмуртский язык надо популяризировать? А зачем и как? Какие методы предлагаешь, помимо открытия школ, создания среды?
— У меня были хорошие преподаватели удмуртского, они мне донесли важность того, что надо сделать все, чтобы это осталось. Эта миссия на нас. Меня огорчает, что не все казанские татары знают татарский. Я даже им говорю: ну нишлисең инде, я понимаю, что это неизбежно. Я вижу, что над использованием языка работают. Остановки в автобусе объявляют, указатели переводятся, есть книги, телеканал. А что не так? Столько людей работает, а всем проще на русском. Меня осенило — есть мода! Если бы не смотрел голливудские фильмы, я бы не знал, скажем, про Центральный парк в Нью-Йорке. Мода определяет желание людей интересоваться тем или иным. Поддерживают его носители или нет, интерес продолжается.
Японцы в этом плане хитрецы: столько людей к ним стремится, потому что начали изучать в детстве аниме и мангу. Нам, малым народам, не надо говорить, что все плохо, а надо изобрести то, что многим понравится. А понравиться есть чему. Но пока используются слишком банальные вещи. Вот чак-чак: да, он вкусный, но придумайте легенду к нему! Я уже перестал ходить в фастфуды, предпочитаю кыстыбый — это топ. Можно создать массмаркету альтернативу. Весь вопрос в маркетинге.

